Свободный грек все больше становился из
производителя потребителем. Это сказывалось даже там, где говорить о
производстве и потреблении вроде бы странно, — в искусстве. Век тому
назад оно было простым — таким, чтобы при надобности любой гражданин
средних способностей, поучившись в школе пению, мог сложить и спеть
песню, а поучившись у мастера правилам пропорций, мог бы вытесать
колонну или статую. Теперь оно становится сложным — таким, чтобы каждый
любовался на произведение, но не каждый мог бы (а еще лучше — никто не
мог бы) его повторить. Из самодеятельного искусство становится
профессиональным — разделяется между немногими производителями и массой
праздных зрителей или слушателей. При этом мастер смотрит на зрителя
свысока, как на невежду, а зритель хоть и восхищается мастером, но тоже
смотрит на него свысока, как на узкого специалиста, нанятого его,
зрителя, обслуживать.
Легче всего это было увидеть на пороге
искусства — в спорте. Каждый может быть физкультурником, но не каждый —
рекордсменом. Олимпийские, Пифийские и прочие игры как раз и
превращаются теперь из спорта физкультурников в спорт рекордсменов. С
состязаний на состязания переезжают одни и те же атлеты, зрители во
время игр восхищаются ими до потери сознания, а после игр пересказывают
шуточки о том, какие эти атлеты в жизни неуклюжие простофили.
Музыка — не спорт, но и в музыке было то
же. Каждый из вас может спеть песню, но не каждый — сыграть на гитаре. В
Греции пение от струнной музыки отделилось именно теперь: рядом с
«кифаредами» — лирными певцами появились «кифаристы» — просто лирники и
тотчас стали на кифаредов смотреть свысока. Инструмент, освободившись от
голоса, сразу стал усложняться: вместо семи струн на кифаре появилось и
девять, и одиннадцать. Когда такие кифаристы приезжали в упрямую
Спарту, эфоры без долгих разговоров перерубали им лишние струны топором.
Театр, конечно, не столь доступное
искусство: писать стихами драмы и раньше мог не каждый. Но он был
доступен если не по форме, то по содержанию: вперемежку с актерами пел
хор, выражая как бы общее мнение о поступках действующих лиц. Теперь хор
исчезает из действия и только в антрактах выступает с песнями и
плясками, уже не имеющими никакого отношения к событиям: зачем хор в
«Остриженной» Менандра? Актеры воспользовались этим: они оставили хор
плясать внизу на орхестре, а для себя выстроили перед палаткой-скеной
высокий узкий помост — «проскений». Раньше театр с виду был похож на наш
цирк — теперь он стал похож на нынешнюю эстраду. Появился даже занавес —
правда не опускающийся (опускаться ему было неоткуда), а поднимающийся,
как раздвинутая ширма, из щели перед помостом.
Живопись шла следом за театром. Для новой
сцены стали делать новые декорации: с перспективою, чтобы все казалось
уходящим вдаль. Потом так стали писать не только декорации, а и фрески, и
картины. На старых картинах любой предмет можно было рассматривать по
отдельности, как знак, глядя откуда угодно; на новых нужно было
рассматривать только все в целом, издали, с той точки, на которую
рассчитывал художник, а изблизи каждый кусок картины казался искаженным и
грубым. Живописец как бы сам указывал зрителю его зрительское место,
как в театре: стой сложа руки и восхищайся.
Скульптура шла следом за живописью.
Знаменитого Лисиппа спрашивали, как ему удается делать статуи словно
живые. Он отвечал: «Раньше скульпторы изображали людей, каковы они есть,
а я — какими они кажутся глазу». Это была как бы скульптурная
софистика: ведь софистика тоже учила не тому, что на самом деле есть, а
тому, как представить то, что нужно, убедительно для публики. У Лисиппа
был брат Лисистрат. Он первый стал ваять лица с портретным сходством,
для этого он даже снимал с живых лиц гипсовые слепки. Если у Лисиппа
были фигуры как живые, то у Лисистрата — лица как настоящие.
Архитектура тоже все больше превращалась в
зрелище напоказ. Прошлый век знал два стиля постройки: строгий
дорический и изящный ионический. Новый век изобрел третий — нарядный
коринфский. О том, как он появился, есть такой рассказ. Умерла девочка,
ее похоронили, и на могилу родные поставили корзиночку с ее детскими
игрушками, придавив черепицей. А там рос греческий кустарник аканф:
гибкие стебли, резные листья и завитые усики. Он оплел и обвил корзинку.
Мимо проходил скульптор, посмотрел, восхитился и сделал по ее образцу
капитель колонны: восемь коротких листиков, над ними восемь длинных;
восемь длинных усиков, меж ними восемь коротких.
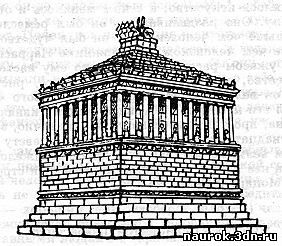
Мавзолей
Галикарнасский был высотой с десятиэтажный дом — 140 футов, а в обход —
километр с четвертью: 410 футов. На основание приходилось 60 футов
высоты, на колоннаду 40 футов, на пирамидальную крышу 25 футов и на
колесницу над крышей еще 15 футов. Таких больших построек Греция еще не
знала. Фриз, изображавший битвы греков с амазонками, опоясывал здание,
по-видимому, над основанием, под коллонадою.
Она
очень красива — но только пока не думаешь, что это колонна, подпирающая
крышу: для опоры листики и усики не годятся. Глядя на дорическую
колонну, мы видим, что она несет тяжесть; глядя на ионическую — помним
об этом; глядя на коринфскую — забываем. Вместо опоры перед нами
украшение.
Поражать глаз можно не только узором, но и
размером. В греческом городе Галикарнасе правил малоазиатский царь
Мавзол. Вдова его заказала греческим зодчим исполинскую гробницу для
мужа — чтобы она была похожа и на греческий храм, и на восточную
пирамиду. Греки сделали, как она хотела. Они мысленно взяли ступенчатую
пирамиду, рассекли ее по поясу и между низом и верхом вставили колоннаду
греческого храма. Сооружение было высотой с десятиэтажный дом; наверху,
над усыпальницей стояла гигантская статуя Мавзола с его негреческим,
безбородым и усатым лицом. Сто лет назад греки ужаснулись бы такой
постройке для варварского князя, в которой Греция смешана с Востоком.
Теперь ею восторгались; галикарнасская гробница была причислена к семи
чудесам света, а слово «мавзолей» разошлось по всем языкам.
Так менялось искусство, а с ним менялось и
отношение к художнику. Оно раздваивалось: он был ремесленником, то есть
меньше чем человеком, и он был чудотворцем, то есть больше чем
человеком. О художнике Паррасии с восхищенным ужасом рассказывали, будто
ему настолько дороже искусство, чем действительность, что, рисуя муки
Прометея, он велел распять перед собой живого человека; народ хотел его
казнить, но, увидев, какая дивная получилась картина, простил и
восславил. Это, конечно, была клевета. Девятнадцать веков спустя такую
же клевету повторяли о другом великом мастере — о Микельанджело
Буонарроти; это на нее намекает Пушкин в последней строчке своей драмы
«Моцарт и Сальери».
|
 З В О Н О К НА У Р О К
З В О Н О К НА У Р О К З В О Н О К НА У Р О К
З В О Н О К НА У Р О К